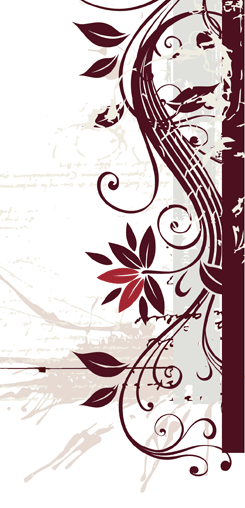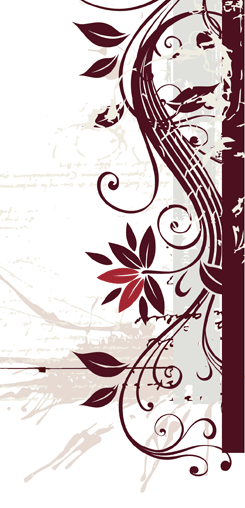М.Ш. БОНФЕЛЬД Музыка: язык или речь? III
Понятие словесной художественной речи как особой системы получило широкое научное обоснование в 20-е годы нашего века в трудах советских и зарубежных лингвистов и литературоведов, входивших в ОПОЯЗ и в Пражский лингвистический кружок. В «Тезисах Пражского лингвистического кружка», опубликованных в 1929 году, сформулирована особая функция художественной речи: «В своей социальной роли речевая деятельность различается в зависимости от связи с внелингвистической реальностью. При этом она имеет либо функцию общения, т.е. направлена к означаемому, либо поэтическую функцию, т.е. направлена к самому знаку»[42]. Значительный вклад в изучение художественной (в том числе и вербальной) речи внесла Тартуская школа и примыкающие к ней ученые; в работах этих исследователей художественная речь изучается в качестве вторичной моделирующей системы. На сегодняшний день накоплено немало ценнейших наблюдений и глубоких теоретических выводов, позволяющих увидеть в художественной речи явление особого рода, весьма далекое по многим параметрам от речи нехудожественной (обыденной, научной и пр.), не сводимое к ее нормам[43]. Одним из фундаментальных факторов, выявленных в процессе анализа художественной речи, оказалось существование художественного произведения как единого целостного знака, в котором отдельные знаки «сведены... до уровня элементов знака. ...Каждый художественныи текст создается как уникальный, ad hoc[44], сконструированный знак особого содержания»[45].
Действительно, из научного, учебного, обыденного, т.е. любого нехудожественного текста может быть изъят фрагмент, обладающий всей полнотой заложенного в нем содержания. Но невозможно извлечь поэтическую строку либо фрагмент художественной прозы сохранив всю полноту содержания этой строки и этого фрагмента[46].
В музыкальном произведении возникает та же ситуация: только взятое в целом, оно обладает всей полнотой заключенного в нем смысла, т.е. представляет собой единый неделимый знак; все же его составляющие, рассмотренные в отдельности, суть элементы данного знака, не обладающие (и не могущие обладать) постоянством значения, независимого от контекста. Такой подход демонстрирует ненужность и невозможность поиска в музыкальном произведении несуществующих дискретных единиц, наделенных стабильными значениями; таким значением обладает только и исключительно музыкальное произведение как целостный организм[47].
В определенном смысле подобных дискретных единиц нет в художественной речи не только музыки, но и любого иного вида искусства; с другой стороны, в любом виде искусства только произведение в целом обладает стабильным, не зависящим от контекста значением, что и делает предлагаемую концепцию общеэстетической.
В то же время в художественном произведении, реализующемся как речь, нет таких элементов (включая мельчайшие детали организации текста и даже отсутствие каких-либо подразумевающихся факторов[48]), которые не обладали бы значением, т.е. не были бы семантически весомыми в системе целого. Именно это обстоятельство «размывает» границу между всеми элементами целого, делает произведение семантически насыщенным от начала и до конца, вне зависимости от того, какая это речь — словесная или музыкальная[49].
Приведенные соображения позволяют сформулировать важную закономерность, характеризующую музыкальную и вербальную художественную речь: и та и другая представляют семантический способ выражения. И тот и другой виды художественной речи представляют собой не систему слов-знаков, каковой является высказывание в рамках естественного языка, но текст — единый целостный знак.
Семантический характер художественной речи приводит к тому, что, в отличие от других речевых форм, для нее не характерна «прозрачность» самого текста. Овладевая нехудожественным текстом, мы относимся к нему только как к «передатчику» неких значений, мыслей, приказов — сама речь при этом как бы выносится за рамки восприятия, ибо оно сосредоточено на существе изложенного. «В результате знаки приобретают "прозрачность": подобно стеклу, они не мешают смотреть на то, что за ними скрыто — на их значения»"[50]. Совершенно иначе обстоит дело с художественной речью: она требует к себе самой наиболее пристального внимания именно потому, что в ней нет ни одного элемента, который не был бы насыщен содержанием, или, точнее, не представлял бы собою форму/содержание[51], не был бы семантически наполненным. В этом смысле также нет никаких различий между художественной вербальной и музыкальной речью: и та и другая семантически насыщенные системы лишены «прозрачности» в силу обретенной ими самостоятельной эстетической ценности. Поэтому нельзя согласиться с суждениями, в которых музыка как «непрозрачная» противопоставлена якобы «прозрачной» вербальной художественной речи: «непрозрачность» есть непременное свойство всякой художественной речи, хотя в различных видах искусства, стилях, жанрах оно выявлено в разной степени[52].
Семантическая насыщенность и слияние смысла высказывания с его формой, воздействуют на уникальность как смысла, так и формы художественной речи. Если бы с помощью обыденной речи можно было передать ту же информацию, которой наполнены художественные творения, то существование последних потеряло бы смысл: зачем тратить усилия на подбор слов, рифм, организацию сюжета, зачем нужны особые ритмы, характерные звукосочетания и их последования, если то же самое можно сообщить, минуя указанные трудности[53]. Однако художественные структуры обладают неизмеримо более значительными возможностями к конденсации информации, чем речь обыденная, научная и любая иная. Более того, художественные произведения несут иную информацию, не сводимую к передаче на каком бы то ни было ином уровне словесной речи. И поскольку эти свойства в равной мере присущи всем иным видам художественной речи (в том числе и музыкальной), то понятным становится тот барьер, который возникает на пути вербальной интерпретации музыкальных произведений. Но этот же барьер находится и на пути интерпретации произведений искусства слова на уровне нехудожественной речи.
Семантическая наполненность определяет собой и факт неисчерпаемости, присущей смыслу художественных произведений. Этим свойством искусство музыки резко отделяется от искусства слова: художественная речь в любом ее проявлении кардинально отличается от речи нехудожественной — именно в первой «решающее значение... приобретает... многозначность, неоднородность и неисчерпаемость материала»[54]. Уникальностью и неисчерпаемостью смыслов художественной речи обусловлена невозможность их адекватного метаязыкового описания. В самом деле, всякое вербальное высказывание о музыкальной речи может быть узко технологическим, т.е. не затрагивающим каких-то образных аспектов ее содержания, и в этом случае — достаточно точным и исчерпывающим (например, в гармонии «Итальянской песенки» из «Детского альбома» Чайковским использованы преимущественно аккорды тонической и доминантовой функций). Либо, чем дальше высказывание отойдет от сугубо технологического уровня и чем ближе оно окажется к уровню образно-содержательному, тем в большей степени будет неточным, неполным и потому неадекватным, предлагая в лучшем случае только одну из множества версий интерпретации.
Было бы заблуждением полагать, что в связи с художественной вербальной речью дело обстоит иначе: «...истолковать произведение... — задача в некотором роде невыполнимая. Точнее, задача эта выполнима, но тогда описанием художественного произведения оказывается точное повторение описываемого текста»[55]. Приведенное суждение теоретика литературы почти дословно совпадает с высказыванием одного из величайших художников слова: в связи с просьбой журналиста назвать «главную мысль» романа «Анна Каренина» Л.Н.Толстой писал одному из своих друзей: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала... Во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится»[56].
Взаимоотношения языка описания, т.е. метаязыка со словесной художественной и с музыкальной речью, можно рассматривать и с несколько иной стороны. В обыденной (учебной, научной и т.п.) речи язык используется для выполнения двух функций: «один раз на нем формулируются некоторые высказывания, другой раз — обсуждается правомерность этих высказываний»[57]. В первом случае высказывания связаны своим содержанием с некоторой совокупностью предметов, явлений, процессов, во втором — они направлены на сами высказывания. Возникает два речевых уровня: первый из них опосредован языком, второй — метаязыком. Нехудожественная речь допускает оба уровня опосредования, причем высказывающиеся далеко не всегда отдают себе отчет, на каком из речевых уровней в данный момент идет беседа. Художественная речь (и, соответственно, музыкальная) не содержит внутри себя метаязыковых высказываний, ибо всякое высказывание входит в конкретное художественное произведение в качестве элемента, семантика которого обусловлена целостным текстом именно данного художественного творения. Даже когда в музыкальном произведении звучит цитата из другого сочинения, это не только (и не столько) высказывание «по поводу», но прежде всего новая музыка, ибо изначально внешний, но опосредованный новым музыкальным целым элемент становится частью новой художественной плоти[58].
Очевидно, что и в случае с вербальной художественной речью дело обстоит точно так же. Если в поэзии, скажем, и появляются высказывания о поэзии (например, пушкинское «так он писал, темно и вяло»), то они только «притворяются» метаязыковыми, ибо входят как элемент художественного смысла данного творения, данного организма. И в этом отношении вербальная художественная речь оказывается гораздо ближе к музыкальной, чем к вербальной нехудожественной речи[59].
Таким образом, художественная речь — и музыкальная, и вербальная — отмечена общими конститутивными параметрами: целостностью текста художественного произведения как единого знака и ограниченной дискретностью значений внутри художественного организма; семантической насыщенностью и минимальной прозрачностью, несводимостью к метаязыковым построениям и отсутствием таковых внутри художественного текста и, наконец, многообразием и неисчерпаемостью содержания (смысла) всякого подлинно художественного произведения словесного или музыкального творчества.
Нетрудно заметить, что все эти качества, взятые в сумме, несколько менее очевидны в прозе, значительно ярче выявлены в поэзии, а в музыке доведены до того предельного уровня, за которым искусстве ждет семантическая немота[60]. Это обстоятельство связано, несомненно, с тем, что вербальная речь — и в художественном и в нехудожественном ее проявлениях — строится на общей языковой платформе, т.е. пользуется единым словесным материалом (хотя слово языка и слово поэтической речи не равны друг другу)[61]. Для музыки же нет такого «обыденного» речевого пласта, который, резко отличаясь нехудожественной функцией, был бы связан с музыкой общей «языковой» платформой, Правда, в некоторых работах в качестве аналога обыденной вербальной речи оценивается бытовая музыка; аргументами такого уподобления служат «ограниченность словаря», «общеизвестность», «банальность»[62]. Внимательный анализ таких утверждений приводит к выводу об их ошибочности в двух отношениях — и относительно музыкальной речи и относительно речи обыденной. Действительно, аналогом нехудожественной, т.е. обыденной, речи в музыке можно было бы считать, скажем, учебную работу в классе гармонии, учебную фугу, инструктивный этюд и т.п. Однако аналогия и в этом случае чисто внешняя: к таким учебным и инструктивным работам ближе всевозможные упражнения в версификации, наброски, этюды (в живописи, графике), ибо в той мере, в какой во всех этих работах проявляется художественный смысл, — это художественная речь (уместно напомнить учебную работу Н.Леонтовича — его знаменитую обработку песни «Щедрик»)[63]; а коль упомянутые тексты лишены этого качества, они отмечены прежде всего отсутствием художественной мысли, содержательности, они примитивно безмысленны. Но подобный упрек (равно как и упрек в бедном словарном запасе) нельзя в принципе адресовать к нехудожественной речи: лишенная художественности, она тем не менее может обладать глубоким житейским, научным, юридическим и т.п. смыслами.
Точно так же нельзя считать бытовую музыку лишенной художественного смысла. Бытовая музыка — это функция, но не качество. Среди произведений, принадлежащих к этому пласту, есть подлинно художественные творения, однако, наряду с этим, в него входят и сочинения, художественный смысл которых незначителен. Но, во-первых," малохудожественные произведения —- отнюдь не редкость и во всех иных пластах музыкально.?:© искусства; во-вторых, малохудожественная бытовая музыка не претендует на роль речи — коммуникации: ее не слушают, это фон, на котором осуществляются какие-то иные житейские функции. Соглашаясь с Асафьевым, что «интонация — материальный носитель художественного смысла», Е.А.Ручьевская пишет: «В художественном произведении интонационно всё, все его элементы... В то же время понятие "интонация" неприменимо к нехудожественному пласту...»[64],
Наиболее близко соприкасается музыка с обыденной речью, когда она функционирует в виде «сигнала» (например, звуки трубы вместо словесной команды «подъем!»). Однако, во-первых, подобные музыкальные проявления весьма локальны и немногочисленны (сравнительно с фактором обьщенной речи — всеобщим и повсеместным); а во-вторых, сам фактор музицирования в этом случае сугубо условен, ибо роль сигнала может выполнить любой громкий звук (удар по рельсу). И все же некий переход от неискусства к искусству здесь существует: непросто, например, найти грань между сугубо ритуальным колокольным звоном и колокольным звоном — произведением искусства. Но и здесь существует определенная закономерность: чем более «языковым», знаковым будет этот акустический сигнал, тем в меньшей степени он сможет быть включен в качестве элемента в музыкальную речь; и — напротив — когда звучит сочинение «Музыка фанфар» или «Колокольные звоны», то сугубо знаковые компоненты каждого элемента этой речи утрачивают конкретную в своей определенности семантику: она растворяется в смысле целого. Следовательно, можно выявить некоторые акустические (невербальные) феномены, выступающие как знаки, но музыкой они становятся только в художественной речи. Обыденного речевого пласта, опирающегося на подобные знаковые элементы в музыке (по крайней мере, европейской традиции), не существует. Именно поэтому музыка, обладая общими фундаментальными параметрами с художественной вербальной речью, является еще одним принципиальным шагом на пути от обьщенной (нехудожественной) речи к «чистой» модели искусства — особой системе, «действующей в личностной плоскости общественной практики и непригодной ни для чего другого»[65].
Суммируя данные анализа взаимоотношений вербальной и музыкальной коммуникаций, можно считать доказанным, что аналогом музыкальной коммуникации является словесная художественная речь, что музыкальной и художественной словесной речи присущи единые конститутивные параметры, а это, в свою очередь, оправдывает отношение к ним как к изоморфным семантическим системам. Итак, всякое отдельное самостоятельное музыкальное произведение — единый целостный знак; и одновременно всякое музыкальное произведение — это речь. Этот, на первый взгляд, парадоксальный вывод справедлив, как это было показано, не только для музыкальной, но и для всякой иной художественной речи. Но если даже для словесной нехудожественной речи реальная деятельность — это речевой процесс, а язык — это некая абстракция[66], то понятие «музыкальный язык», равно как и понятия «поэтический язык», «языки» кино, живописи, архитектуры и т.п., становится сугубо метафорическим по отношению к естественному вербальному языку, рассматриваемому как знаковая семиотическая система[67].
В художественном творчестве произнесение (или преподнесение) знака — это всегда речевой процесс, разворачивающийся во времени (словесные искусства, музыка), в пространстве (пластические искусства, архитектура) либо во времени-пространстве (области сценического творчества). Необходимо осознать, чем же в таком случае являются элементы произведения-знака, из которых оно складывается как художественная речь. В обьщенной (нехудожественной) речи основной единицей является высказывание, состоящее из знаков-слов. Как же дело обстоит в художественной речи, и в частности — в речи музыкальной?
Можно полагать, что коль скоро произведение в целом — это знак, то его элементы — это субзнаки, т.е. частицы знака, подобные морфемам естественного языка. В самом деле, во всяком музыкальном произведении можно выделить семантически сгущенные (мотивные, тематические) и разреженные (ходы, связки, общие формы движения) области. И если последние можно уподобить фонемам, не обладающим заметными значениями, то семантически весомые элементы произведения соотносятся с морфемами (корнями, приставками, окончаниями и т.п.), априорно связанными с предельно широкой зоной значений, которая существенно сужается, насыщается конкретным смыслом только в контексте целостного произведения-знака.
Но в этом случае музыкальная речь оказывается и объектом семиотическим, более того — объектом, семиотически структурный подход к которому просто обречен на успех: именно на уровне фонем и субзнаков структурализм свершил свои наиболее значительные достижения — создал, в частности, структуралистскую фонологию[68]. Вопрос, следовательно, заключается в том, чтобы обнаружить такое измерение музыкальной речи-знака, которое соответствовало бы возможностям структурного анализа. И это, вероятно, послужит последним решающим доводом — ultima ratio — в пользу понимания музыкальной коммуникации как явления семиотического.
С достаточной полнотой суть структурно-семиотического подхода к явлениям искусства изложена С.Х.Раппопортом в статье, специально посвященной этой проблеме: «Обнаруживая инварианты во многих произведениях искусства, можно полагать их знаками (либо элементами, из которых строятся знаки) языка данного искусства. Описание таких инвариантов — непременная предпосылка его глубокого исследования. Вслед за этим встает задача обнаружения и описания инвариантных связей и зависимостей между ними, инвариантных сложных структур, построенных из некоторой совокупности знаков, инвариантных связей и зависимостей этих сложных структур и т.д.»[69]
Если отказаться от понимания художественного произведения как системы знаков, из которых складывается некий «язык данного искусства» (ошибочность такого подхода изложена выше), и интерпретировать каждое произведение как единый целостный знак, то задача, следовательно, заключается в поиске такого массива знаков, в котором, наряду с несомненными отличиями (вариативностью), обнаруживались бы отдельные инварианты-элементы, образующие структуру этих знаков, инвариантные связи и зависимости между этими элементами, инвариантные сочетания этих элементов и их связей и, наконец, инвариантное строение целых групп музыкальных произведений-знаков. Тогда все множество произведений оказалось бы возможным классифицировать по определенным параметрам, что и дало бы основания для восприятия такого множества знаков-произведений как семиотической (знаковой) системы, которая тем не менее не является языком. Не составляет большого труда указать на обширную область музыкознания, которая уже более века использует подобный подход к музыкальному искусству, не осознавая того, что этот подход в основе — структурно-семиотический. Такой областью является анализ музыкальных форм/ структур.
Применительно к профессиональной музыке европейской традиции весь массив музыкальных произведений дифференцирован на определенные однородные группы, в которых сочетания инвариантных элементов в знаках — целостных произведениях (структуры произведений) и сами инварианты-элементы (мелкие построения) не только обнаружены, но и весьма подробно охарактеризованы. Глубоко проанализированы также инвариантные связи и зависимости между ними (формообразующие и конструктивные принципы, само явление формы как процессуального акта), инвариантные сложные структуры, взаимодействия сложных и простых структур, их иерархия и т.д. Отечественное музыкознание, благодаря трудам Б.Л.Яворского, Б.В.Асафьева, Л.А.Мазеля, В.А.Цуккермана, В.П.Бобровского и других, вскрыло глубокие закономерности, присущие этим аспектам музыкальной речи. Отмеченное сходство структурно-семиотического метода и традиционного анализа музыкальных структур может служить основанием для выводов, как минимум, в двух направлениях.
Во-первых, разумеется, не случайно семиотический подход к музыкальному искусству сформировался задолго до его теоретического обоснования как семиотического (и даже упоминания о нем) в связи с естественным словесным языком или другими знаковыми системами. Природа музыки европейской традиции такова, что делает необходимой четкую структурную организацию всех компонентов музыкальной ткани; эта структурная организация, будучи направленной на активное восприятие слушателя, выработала известное количество типических структур, неведомых в таком качестве словесному искусству — ни поэзии, ни тем более прозе (столь же проблематичны типические структуры в изобразительном искусстве, за исключением иконописи и некоторых других областей). Сопоставима музыка в этом смысле лишь с архитектурой, пресловутое сравнение с которой важно именно по характерной структурной строгости и типичности структур, а не только по семантической усложненности[70]. Именно привычка музыкантов — теоретиков и практиков — к этой упорядоченности, восприятие ее как органично-музыкального свойства, ее самоочевидность мешали соотнести это свойство со сравнительно недавно обнаруженными структурализмом закономерностями, скрывали семиотическую природу структурных параметров в музыкальных произведениях.
Во-вторых, этот семиотический аспект музыкальных структур есть проявление специфического музыкального смысла, который присущ данным структурам. Простые и сложные формы и их элементы (начиная с мотива), формообразующие принципы — тождество, контраст, динамическое сопряжение, категории фона и рельефа, изложения и развития, функции материала в формообразовании — все это факторы, несомненно опосредующие немузыкальный мир и отношения в нем, но специфически музыкальным, не мыслимым иначе образом[71]. Семиотический аспект музыкального искусства долгое время был как бы «в тени» для музыкознания еще и потому, что только исследования, осуществленные в последние десятилетия, вскрыли (и продолжают вскрывать) указанный смысл, заложенный в структуре и ее инвариантных факторах (противоположный пониманию формы только и исключительно как схемы). А ведь именно это позволяет, наряду со всем прочим, рассматривать структуру целостного произведения как знак.
Совершенно независимо от анализа музыкальных структур, но нечто весьма близкое к нему по методу и полученным результатам открыл один из крупнейших филологов-фольклористов — В.Я.Пропп. Это открытие было зафиксировано в получившей всемирную известность работе «Морфология сказки» (1-е изд. в 1928 г.). Проанализировав обширный материал (100 волшебных сказок из сборника А.Н.Афанасьева), В.Я.Пропп сумел обнаружить в нем типологические структурные элементы — функции действующих лиц, определенный наСср ролей действующих лиц, — и на основе этих элементов разработал две модели, благодаря которым выяснилось, что все волшебное сказки подчинены единой схеме. Это и позволило ученому доказать исходный тезис о «полном единообразии строения волшебных сказок»[72]. Оценивая данное открытие, один из современных лингвистов-семиотиков Вяч.Вс.Иванов считает, что В.Я.Проппом «впервые к целой группе текстов был применен тот морфологический подход, основные идеи которого восходят к Гете; в дальнейшем именно это направление поиска инварианта, сохраняющегося при всех преобразованиях текстов, получило развитие в семиотических трудах Леви-Стросса по мифологии... а также в уже многочисленных работах продолжателей Проппа, стремившихся к построению общей теории "повествовательности"... которая постепенно все ближе смыкается с лингвистикой текста...»[73]. В отличие от своих предшественников, которые в качестве неразрушаемых единиц рассматривали либо мотив, либо сюжет, взятый в целом[74], В.Я,Пропп подошел к отдельной сказке, по сути, как к тексту-знаку (конкретные слова, которыми рассказана сказка, его не занимали: они в этом целостном знаке выполняют функцию только субзнаков, элементов знака)[75] и, рассмотрев его в системе других подобных знаков-текстов, сумел обнаружить инвариантные факторы, присущие каждому из этих знаков, что и выявило закономерности, общие для всей системы знаков-текстов. Именно это, но гораздо более явно, происходит и в связи с типическими музыкальными структурами.
Возвращаясь к сомнениям Цв.Тодорова о возможности для се-"миотики одного вида художественного творчества научиться чему-либо у семиотики другого вида, теперь можно констатировать, что обнаружение общего фундамента для всякого вида искусства, понимаемого как художественная речь, помогло сразу же вскрыть то общее, что есть, в частности, у «семиотики музыки» и «семиотики словесного фольклора». Правда, попытки вывести аналогичные формулы порождения художественной речи в авторских (уникальных) произведениях поэзии и прозы отмечены громоздким аппаратом и не привели пока к заметным достижениям[76]. Можв:о полагать, что семантическая «внятность» художественной речи в этом случае либо делает инвариантные элементы и связи внутри знаков-текстов гораздо более тонкими, менее уловимыми, скрытыми от анализа, либо — в принципе излишними. В настоящее время появились также аналогичные работы в области изобразительной художественной речи. Таково, например, интересное описание универсальной схемы-инварианта многих изображений, семантика которых соотносится с единой сюжетной основой (Змей и Змееборец)[77].
Надо полагать, что дальнейшая разработка как проблемы взаимодействия различных видов художественной речи, так и локальных проблем музыки в семиотическом аспекте позволит успешно справиться со многими пока еще далекими от решения задачами.
Опубл.: Музыкальная коммуникация: сб. научных трудов. Серия "проблемы музыкознания", вып. 8. СПб, 1996. С. 15 – 39.
[1] См., напр.: Much muzyczny. 1975. № 2, 4, 5, 9.
[2] Stockmann D. Muzyka jako system komunikacji // Res Facta, 9. Krakow,
1982. S. 233.
[3] Именно такова логика рассуждений К.Леви-Стросса («музыка является языком, потому что мы ее понимаем»). См.: Силичев Д. Предисловие переводчика // Леви-Стросс К. «Болеро» Мориса Равеля // Музыкальная академия. 1992. № 1. С. 168.
[4] Хамский Н. Язык и мышление. М., 1972. С. 35.
[5] Налимов В,В., Мульченко З.М. К вопросу о логико-лингвистическом
анализе языка науки // Проблемы структурной лингвистики, 1971. М., 1972.
С. 541.
[6] См.: Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. М., 1974. С. 91.
[7] Там же. С. 100—101 (здесь и далее жирное выделение в цитатах принад
лежит авторам цитируемых текстов, курсив — автору настоящей статьи). Ср.: «...прежде всего... — определенная форма знака — дает основание для соотнесения знака с его денотатом» (Вартазарян СР. От знака к образу. Ереван, 1973. С. 59); «контекст не образует, а реализует значение слова» (Федоров А.И. Причинно-следственные связи в языке // Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. Новосибирск, 1984. С. 28—29).
[8] См.: Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика. С. 104; см. также:
Волховский Р. Некоторые особенности знаковых ситуаций в условиях художественного музыкального произведения // Теоретические проблемы марксистско-ленинской эстетики. М., 1975. С. 234.
[9] Бенвенист Э. Семиология языка // Бенвенист Э. Общая лингвистика.
М., 1974. С. 80, 82.
[10] Лотман Ю.М. Замечания о структуре повествовательного текста //Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Вып. 308. Тр. по знаковым системам. Т. VI. Тарту, 1973. С. 382.
[11] Тодоров Цв. Семиотика литературы // Семиотика. М., 1983. С. 350.
[12] Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 57.
[13] «...Ни один сколько-нибудь мыслящий лингвист не мог обойтись без этого некрытого Соссюром противопоставления» (Холодович А.А. О «Курсе общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. С. 23).
[14] См. многие работы Л.Мазеля, В.Цуккермана и др.
[15] См.: Медушевский В. О закономерностях и средствах художественною воздействия музыки. М., 1976; Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1962 и др.
[16] См.: Кон 10. Вопросы анализа современной музыки. Л., 1982. С. 7.
[17] См.: Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1979.
[18] Там же. С. 78.
[19] Там же. С. 83.
[20] Там же. С. 83—84.
[21] Там же. С. 78.
[22] Там же.
[23] См. об этом: Кузнецова Э.В. Методические указания и материалы к
спецсеминару «Системные отношения в лексике». Донецк, 1968.
[24] См.: Шалютин СМ. Язык и мышление. М., 1980. С. 17.
[25] Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 239.
[26] Леонтьев А.А. Знак // Философские проблемы психологии общения.
Фрунзе, 1976. Сб.
[27] Тулмин С. Моцарт в психологии // Вопросы философии. 1981. № 10.
С. 132. См. также: Леонтьев А.А. Речь // БСЭ. 3-е изд. Т. 22. Стб. 208.
[28] См.: Сегал Д.М. Рец. на кн.: Lewis M.M. How children learn to speak.
London, 1957 // Структурно-психологические исследования. М., 1962. С. 274;
Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 106.
[29] «Когда ребенок лепечет, никакие усилия не заставят его говорить по-настоящему. Он для этого еще не созрел» (Кондратов А. Звуки и знаки. М., 1978. С. 177). См. также четверостишие Пастернака:
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут — а слова
Являются о третьем годе.
[30] Изучению общения матери и ребенка (Mutter-Kind-Kommunikation) посвящена глава в диссертации Р.Эггебрехта (Eggebrecht R. Sprachmelodische und Musikalische Forschungen im Kulturvergleich. Miinchen, 1985. S. 40—80).
[31] Бассин Ф.В. У пределов распознанного: к проблеме пред-речевой формы мышления // Бессознательное. Т. III. Тбилиси, 1978. С. 739—740.
[32] См. также у А.А.Потебни упоминание о мысли, которая «существует до слова» (Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 305).
[33] Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. С. 58.
[34] Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 89.
[35] См.: Хомский Н. Язык и мышление. С. 38.
[36] «...Релевантная грамматика должна дать возможность порождать все
грамматически отмеченные ("правильные") предложения данного языка» (Хилл А. О грамматической отмеченности предложений // Вопросы языкознания. 1961. №4. С. 104).
[37] ХомскийН. Язык и мышление. С. 64.
[38] Chomsky N. Sprache und Gest. Frankfurt (Main), 1970. S. 155.
[39] Ср.: Музыкальный язык «усваивается каждой личностью неосознанно в процессе онтогенеза, через общение с музыкой» (Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика. С. 95).
[40] Ашхаруа-Чолокуа А. Роль ассоциаций в механизме художественного воздействия // Эстетические очерки. М., 1979. С. 170.
[41] См.: Михайлов М. Стиль в музыке. Л., 1981. С. 53.
[42] Цит. по: Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. С. 75.
[43] «...Совершенно ясно, что отклонение от правил не только терпимо (как в прозе, так и в поэзии), но может с успехом применяться как стилистический прием» (Хамский Н. Несколько методологических замечаний о порождающей грамматике // Вопросы языкознания. 1962. № 4. С. 117. Сн. 23).
[44] Специально для этого (лат.).
[45] Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 31. И у него же: «...единицей в поэтическом тексте становится не слово, a текст как таковой — явление, типичное для недискретных типов семиозиса. (Лотман Ю.М. Замечания о структуре повествовательного текста. С. 386).
[46] Применительно к словесной художественной речи проблема целостности подробно рассмотрена в кн.: Гиршман М.Ы. Ритм художественной прозы. М., 1982 (гл. X: Ритм и целостность).
[47] Более подробно эта проблема рассмотрена в ки: Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление: (Опыт системного исследования музыкального искусства). М., 1991. С. 14—16;
[48] Минус-приемы (термин Ю.М.Лотмана).
[49] «...Элемент получает свой смысл в конечном счете лишь в контексте
всего произведения (независимо от его масштабов)» (Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика. С. 118).
[50] Блудова В. Природа и структура художественного восприятия // Эстетические очерки. Вып. 4. М., 1977. С. 124.
[51] «.. .В произведении искусства все является формой... и одновременно все является содержанием» (Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. С. 467). См. также: Винокур Г.О. Понятие поэтического языка // Проблемы лингвистики. М., 1970. С. 34.
[52] Блудова В. Природа и структура художественного восприятия. С. 127. Ср.: поэзия — «это ритмизация речи, которая, скорее, препятствует, чем содействует, ясности высказывания...» (Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 563).
[53] См.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. С. 17.
[54] Волховский Р. Вещестиенность знака как фактор художественного воздействия // Эстетические очерки. М., 1980. С. 162.
[55] Тодоров Цв. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 38. Ср.: «Единственно возможный метод комментирования музыкального произведения — это еще одно музыкальное произведение» (Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. М., 1973. С. 78).
[56] ТолстойЛ.Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 62. М., 1953. С. 269.
[57] Налимов В.В. Вероятностная модель языка. С. 53.
[58] См. об этом, напр.: Арановский М. Пятнадцатая симфония Д.Шостаковича и некоторые вопросы музыкальной семантики // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 15. Л., 1977. С. 55—94.
[59] Глубокое теоретическое обоснование отличий вербальной художественной речи от речи, опосредованной метаязыком, см.: Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». С. 193—230.
[60] «...По поводу отношений между музыкой и языком можно с уверенностью сказать следующее: ...музыкальная сторона всегда наличествует в языке, но как музыка язык воспринимается лишь в тех случаях, когда он перестает восприниматься как язык» (Вахек И. Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964. С. 265).
[61] См. об этом подробнее: Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. С. 45—46.
[62] Кац Б. Простые истины киномузыки. Л., 1988. С. 180.
[63] Об этом говорит М.К.Михайлов: «Музыкальное мышление, даже в наиболее примитивных своих проявлениях, например, в учебно-технологических задачах, все же всегда остается специфически художественным явлением (понятие бытовых и прикладных жанров никак не соответствует понятию бытовых функций словесной речи)» (Михайлов М. Стиль в музыке. С. 53).
[64] Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. С. 12.
[65] Раппопорт С. Природа искусства и специфика музыки // Эстетические очерки. С. 100.
[66] «Язык не деятельность говорящего... Язык — это... грамматическая
система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе» (Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. С. 52).
[67] Именно такое (метафорическое) употребление категории «музыкальный язык» свойственно традиционному музыкознанию, в котором эта категория обозначает совокупность средств музыкальной выразительности, присущую той или иной художественной системе, и в этом качестве используется очень плодотворно. Подробнее об этом см.: Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. С. 14—25.
[68] Даже откровенный противник структурализма Н.Хомский отметил, что разработанная Трубецким, Якобсоном и другими структуралистами фонолог
Источник: http://www.opentextnn.ru/music/Perception/?id=1416