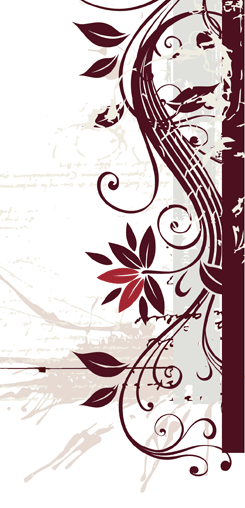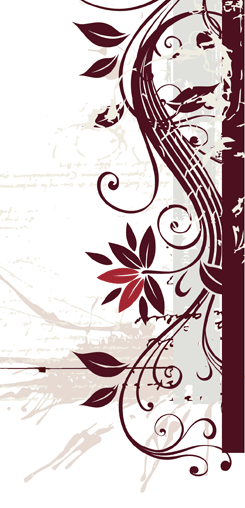| Мартынов В.И., композитор О красоте, плаче, богослужебном пении и музыке "Kрасота спасет мир" - это знаменитое высказывание Федора Михайловича Достоевского, воспринимающееся сегодня не более как поэтическая метафора или романтическая сентенция мечтателя-идеалиста, сразу же обретает осязаемую реальность и наполняется практическим содержанием - стоит лишь стать на точку зрения человека древней Руси, в представлении которого красота была способна не только спасти мир, но, будучи почитаема как одно из Имен Божиих, являлась самой причиной бытия мира, вне которой мир был попросту не мыслим. Красота, исповедуемая как Имя Божие, уже перестает быть чисто эстетической категорией и начинает пониматься как онтологическая данность, как корень всего сущего, как начало и мера всех вещей, как всеобщая Причина. Классическая формулировка такого понимания красоты дана в тексте Ареопагитик следующим образом: "В Прекрасном все объединяется, Прекрасное как творческая причина является началом всего, приводит все в движение и связывает все воедино через влечение (эрос) к своей Красоте. Будучи целепричиной всего сущего, Прекрасное является Возлюбленным и Пределом всего (ибо все рождается для Красоты) и образцом поскольку все определяется в зависимости от него". В контексте православной традиции слово "спасение" обозначает приобщение к Бытию путем обретения Вечной Жизни, и, таким образом, Красота спасает мир именно потому, что через Красоту мир обретает Бытие. Ведь если причастность или непричастность Красоте означает причастность или непричастность Бытию, то только участие мира в Красоте может обеспечить существование мира, в то время как отпадение от Красоты (или утрата миром Красоты) равносильно утрате миром самого Бытия. В Красоте, спасающей мир, необходимо различать Красоту как таковую, Красоту саму по себе, от того, в чем Красота участвует и что она делает красивым в силу своего участия. Мир, спасаемый Красотою, прекрасен, однако он оказывается таковым не сам по себе, но только постольку, поскольку участвует в Красоте как таковой. Предоставленный сам себе, лишенный участия в Красоте, мир перестает быть красивым (ибо красивым может быть лишь то, что причастно Красоте), и если отпадение от Красоты будет продолжаться, то, становясь все менее и менее красивым в процессе энтропии, мир достигнет, наконец, состояния безобразия, которое есть ни что иное, как хаос или абсолютное небытие. Вот почему для того, чтобы мир существовал, Красота должна постоянно спасать его, постоянно участвовать в нем, делая его прекрасным, противостоя центробежным силам энтропии и не давая ниспасть в небытие. Это постоянное участие Красоты в мире православная традиция обозначает словом "промысел", и именно в процессе этого промысла Красоты о мире, Красота, будучи одним из Имен Божиих, раскрывается как Красота (как таковая) и как красивое, которое может быть определено еще как красота мира. Постижение Красоты, раскрывающейся в акте промысла, является, по существу, единственной и высшей целью всей человеческой деятельности. Однако подобно тому, как в Красоте различается Красота как таковая и красивое, так и в постижении Красоты необходимо различать постижение Красоты как таковой и постижение красивого. Различие между ними в свою очередь, вызывает к жизни различные формы самореализации человека. Таким образом, в процессе самореализации и постижения единой Красоты перед человеком возникают два возможных пути: или актуальное приобщение к красоте как таковой, или же актуальное приобщение к красивому, в результате чего человек может реализовать свою природу или в конкретных формах, связанных с Красотой как таковой, или же в конкретных формах, связанных с красивым, понимаемым как красота мира. Красота мира многообразна. Она проявляется через красоту звука, цвета, формы, слова, логического построения, числового отношения, нравственного поступка- словом, через все умопостигаемое и чувственно воспринимаемое, поэтому-то и постижение красоты мира начинается именно с приобщения к красоте всего того, что является умопостигаемым и чувственно воспринимаемым. Красота же как таковая единообразна, ибо, участвуя в каждом из вышеперечисленных явлений, она в то же самое время не является ни одним из них, но, будучи запредельной всему умопостигаемому и чувственно воспринимаемому, и оставаясь всегда самотождественной и неизменной, Красота как таковая не может быть сведена к красоте какого-либо конкретного явления. Вот почему приобщение к Красоте как таковой начинается именно с отрешения от всего умопостигаемого и чувственно-воспринимаемого. Путь приобщения к красивому или к красоте мира, заключающийся в общении с умопостигаемым и чувственно воспринимаемым, порождает формы художественной самореализации человека. Путь же приобщения к Красоте как таковой, заключающийся в отрешении от всего умопостигаемого и чувственно-воспринимаемого, порождает формы аскетической самореализации человека, вершиной которых является аскетический подвиг. Аскетический подвиг не исчерпывается только лишь созданием прекрасной светоносной личности, ибо личность эта, соприкасаясь с миром, делает причастным мир к той Красоте, которой стала причастна сама в процессе аскетического подвига. И спасение мира Красотой, или промысел Красоты о мире практически осуществляется именно в аскетическом подвиге, ибо мир, воспринимая излучение Красоты, исходящее от подвижника, делается прекрасным, обретая иммунитет против процессов энтропии и соскальзывания в безобразие, хаос и небытие. Таким образом, если аскетика преображает мир, причащая его Красоте и делая его прекрасным, то художество, постигая красоту мира, всего лишь повторяет и воспроизводит ее, в результате чего суть любой художественной деятельности заключается не в преображении мира, как полагают иные, но в подражании миру путем воспроизведения его красоты. Вот почему аскетика, постигающая Красоту как таковую, которая есть причина и корень всякой красоты, и в свою очередь, и сама является причиной и корнем всякого искусства и художества, по праву почитаясь искусством из искусств и художеством из художеств. Будучи корнем и причиной всех художеств и искусств, аскетика представляет собою необходимый фундамент того живого духовного синтеза, который явлен нам в православном богослужении, объединяющем в себе зодчество, гимнографию, иконопись, пение, каллиграфию и другие ремесла, претворяющие образ высшей небесной красоты в свойственных им материальных средствах - в красках, в звуках, в словах, в камне, дереве или металле. Ни одно из этих искусств не мыслимо и не осуществимо вне аскетической молитвенной практики и поэтому каждое из них может рассматриваться как особая аскетическая дисциплина, а иконописец, певчий, зодчий, гимнограф или каллиграф прежде всего должны быть аскетами и молитвенниками, прошедшими поприще подвига созерцания. Только пройдя его и став соучастниками и свидетелями высшей Красоты, они получают духовное право свидетельствовать об этой Красоте путем написания икон, пения на клиросе, строительства храмов, составления молитвословий или переписывания книг. Вот почему можно утверждать, что, соприкасаясь с различными видами древнерусского церковного искусства, мы имеем дело не столько с видами искусства, сколько с отдельными аскетическими дисциплинами, базирующимися на фундаменте единой синтетической системы православной аскезы. Этот живой духовный синтез был знаком средневековой Европе, однако он был утрачен там уже ко времени Высокого Ренессанса, разрушившего понимание органического единства аскетического подвига и его внутренней художественной природы. В результате этого аскетика, почитавшаяся ранее искусством из искусств, стала мыслиться не столько как отрешение от мира, сколько как отрицание мира, и будучи сведена лишь к процессу умерщвления плоти, превратилась в тормоз свободного развития искусств. Искусства же, в свою очередь, перестав быть аскетическими дисциплинами и освободившись от обязательной ранее связи с молитвенным процессом, превратились в свободные искусства: иконопись стала живописью, молитва - поэзией и художественной прозой, богослужебное пение - музыкой. Но, став свободными и разорвав связи с аскетикой, искусства, предоставленные сами себе, утратили способность быть причастными к Красоте как таковой, в результате чего их сфера деятельности была сведена к воспроизведению красоты мира. Так утрата живого духовного синтеза привела к подмене Красоты как таковой красивым, или красотой мира. Именно эта утрата и является причиной плача пророка Иеремии, ибо разрушенный Иерусалим есть не что иное, как наш мир, лишенный участия в Красоте. Богослужебное пение и мирская музыка различны по своему происхождению. История богослужебного пения начинается на Небе, ибо впервые хвалебная песнь Богу была воспета бесплотными силами небесными, образующими собой мир невидимый и духовный, сотворенный Господом прежде мира видимого и вещественного. Таким образом, начало богослужебного пения лежит за пределами земной истории и за пределами истории видимого мира вообще. Песнь эта, воспетая в момент творения, продолжает быть воспеваема и будет воспеваться вечно святыми ангелами. Однако человек, извративший преступлением заповеди свою первоначальную природу и впавший во власть греха, тления и смерти, не в состоянии более слышать это пение и быть ему причастным. Только в исключительные моменты отдельные избранники божии обретали дар слышать пение ангелов. Священное Писание упоминает в связи с этим: * святого пророка Исайю, слышавшего серафимскую песнь;
* вифлеемских пастырей, видевших воинство небесное, благовествующее Рождество Христово;
* святого Иоанна Богослова, сподобившегося откровения высочайших тайн на острове Патмос. Свидетельства о слышании ангельского пения отдельными угодниками можно найти также и в церковном предании. В отличие от богослужебного пения, небесное происхождение которого лежит за пределами мировой истории, история музыки начинается на Земле в конкретный исторический момент. Изобретение, или открытие музыки Священное Писание связывает с одним из потомков Каина -Иувалом, называя его "отцом всех играющих на гуслях и свирелях". Связывая появление музыки с конкретным лицом, Священное Писание не только указывает определенный момент в истории человечества, до которого музыки не было и с которого она начинает свое существование, но и координирует этот момент с другими историческими событиями. Так, согласно Священному Писанию, музыка появляется на исторической арене одновременно с зарождением ремесел, с началом обработки железа и одомашнивания животных, то есть, в момент формирования основ материальной цивилизации и начала активного освоения внешнего мира. Развитие же цивилизации и освоение мира сопровождаются накоплением зла, насилия и несправедливости, о чем свидетельствует песнь отца Иувала - Ламеха, убившего человека за нанесенную рану и отрока за удар. Происходя из столь разных областей бытия, и богослужебное пение, и мирская музыка и причины своего существования имеют различные. Причиной пения ангелов является непосредственное созерцание ими Славы Пресвятой Троицы, побуждающее их к непрестанному восхвалению Господа и вызывающее в них неудержимое желание сообщения благодатных даров этого созерцания всей твари. Природа ангельского пения может быть уподоблена природе отражения. Ангелы, являющиеся "вторыми светами", не поглощают собою эгоистично Божественный Свет, исходящий от Света Перваго, но подобно зеркалам отражают этот Свет вовне, освещая все вокруг. Точно так же и преисбытствующая благодать, изливающаяся на ангелов от Престола Божия, не удерживается ими, но по любви и снисхождению их продолжает изливаться чрез них на всю тварь в виде ангельского пения или благовествования. Если причиной ангельского пения является преизбыток благодати, то причина возникновения музыки коренится в утрате благодати, последовавшей сразу же за грехопадением. Падший человек, очутившийся в мире, вовлеченном в его падение и извращенном его преступлением, начал испытывать не только телесный голод и телесную нужду, но в еще большей степени голод духовный, вызванный утратой богообщения, лишением благодатных даров, присущих ему до грехопадения, и невозможностью быть более причастным райским блаженствам. И подобно тому, как для утоления телесного голода человеком были придуманы орудия охоты и земледелия, при помощи которых добывалась пища телесная, так и для утоления голода духовного придуманы были музыкальные инструменты, с помощью которых можно было извлекать музыкальные звуки, служащие пищей духовной. Музыкальные звуки, возбуждая особым образом душу человека, способны приводить ее в некое возвышенное и приятное расположение, напоминающее райское блаженное состояние и в какой-то мере восполняющее его отсутствие, на краткое время позволяя забыть ей о тяжких заботах мира. Таким образом, музыка, являющаяся неким заменителем или эрзацем нетленной райской пищи, могла возникнуть и стать необходимой только в результате утраты человеком райского блаженства вообще и способности слышания пения ангелов в частности. Естественно, что столь противоположные явления, как богослужебное пение и музыка не могут иметь единой истории и развиваются отдельными, самостоятельными путями, то соприкасаясь друг с другом, то расходясь и существуя независимо одно от другого. Земная история богослужебного пения и история музыки берут свое начало от двух родственных групп людей: от потомков Сифа сифитов и от потомков Каина - каинитов. Путь сифитов и путь каинитов - это разные реакции человеческого сознания на грехопадение и изгнание из рая. Желание вновь обрести утраченное блаженное райское состояние стало основным и всепоглощающим желанием всего человеческого существа, однако практическое осуществление этого желания было разным. Сифиты пошли по пути призвания имени Господа, то есть, по пути попытки личного примирения с Богом и покаяния перед Ним в надежде получить когда-нибудь прощение и возвращение утраченного состояния. Каиниты пошли окольным путем и попытались "воссоздать" само райское блаженное состояние земными средствами, "устроиться на земле без Бога", следуя примеру своего прародителя Каина, который после убийства Авеля "пошел от лица Господня", построил первый город и заложил основание материальной цивилизации. Призывание имени Господа, начатое, согласно Священному Писанию, при Еносе, некоторыми отцами понимается как начало торжественного общественного служения. Другими же оно толкуется как начало внутреннего сосредоточенного памятования о Боге или как стяжание умного вопля сердца. Как в том, так и в другом случае необходимо отвлечение внимания от всего земного и мирского и сосредоточение его на Небесном и Божественном. Подобная отрешенность и сосредоточенность немыслимы без особой душевной тишины, рождающейся из тишины физической, когда смолкает все мирское и материальное, и все внутренние силы устремлены к Богу. Вот почему тишина души, или особое душевное молчание, есть начало богослужебного пения. И именно этот факт подчеркивает Священное Писание, не сообщая ничего о каких-либо песнопениях или молитвах, сопровождающих жертвоприношения патриархов, вплоть до времени Авраама, Исаака и Иакова, и вместе с тем приводя текст воинственного и жестокого песнопения Ламеха, являющегося, очевидно, первым музыкально-поэтическим произведением в истории человечества. Таким образом, если музыка начинается с шума или физического звукоизвлечения, то богослужебное пение начинается с духовной тишины. Путь к постижению богослужебного пения лежит через "молчание мира", которое преобразуется в историческом периоде "немоты", простирающемся от изгнания из рая до песнопения, воспетого Моисеем при переходе через Чермное море. Это "молчание мира" окончательно воплощается в безмолвствующем сердце православного подвижника. И если, следуя блаженному Августину, рассматривать историю человечества как созидание двух градов - небесного и земного, можно утверждать: если в основе града земного лежит звук, то в основе небесного града лежит тишина, молчание, или "иссихия". Впервые на Земле песнь Истинному Богу была воспета израильтянами, чудесным образом перешедшими под водительством Моисея Чермное море. Этому событию непосредственно предшествовали и обусловили его два наиважнейших обстоятельства: Первое из них - это момент исхода, то есть разрыв с привычкой, сложившейся жизненной ситуацией и выход из нее по Божиему велению; Второе - следование Слову Божиему и Его воле вплоть до смерти, ибо вступление израильтян на дно моря свидетельствует о такой готовности. Без этих двух условий богослужебное пение не может зазвучать на Земле. В этом заключается его коренное отличие от музыки, которая при разных обстоятельствах может зазвучать по воле человека. Богослужебное пение прежде всего есть чин, или порядок, а порядок есть следование Божественному закону. Вот почему до получения Моисеем заповедей Божьих и скрижалей Завета богослужебное пение попросту не могло существовать на Земле. Исполняя Закон и починяясь Божественному Порядку, человек уподобляется ангелам, а в силу того, что пение является неотъемлемой частью ангельской природы, человек получает способность воспевать песнь Богу. Своеобразие и неповторимость русского богослужебного пения зиждется на особом понимании русскими людьми сущности этого пения, а также на остром осознании различия между богослужебным пением и мирской музыкой, ибо мало где еще это различие ощущалось так ясно и проводилось с такой четкостью, как на Руси. И если на Западе смешение богослужебного пения с музыкой зашло так далеко, что словом "музыка" могло обозначаться как мирское музицирование, так и пение в церкви, то на Руси для обозначения этих явлений употреблялись совершенно разные термины. Следы этого различия можно наблюдать и в наши дни в глубинных областях России, где до сих пор пение в церкви обозначается словом "петь", а пение вне церкви мирских песен обозначается словом "играть". Истоки этого терминологического различия находятся в самом начале истории русского богослужебного пения и освящаются авторитетом первых русских святых. В житии преподобного Феодосия Печерского есть место, в котором описывается приход преподобного на пир к князю Святославу Ярославичу, окруженному многими играющими на различных инструментах: "овы гусельныа гласы испущающим, и инем мусикийскиа гласящим, иные же органныа, и тако всемь играющим и веселящимся". Преподобный Феодосии, обратившись к князю, тихо сказал: "Будет ли сице вь он век будущий", то есть "Будет ли так в том будущем веке?" - после чего князь тотчас же приказал прекратить игру. В этих словах преподобного утверждается невкорененность музыки в вечность, ее непричастность "Жизни Будущего века". Еще отчетливее природа музыки выявляется в истории падения преподобного Исаакия Печерского, в момент обольщения которого бесы "удариша в сопели и в гусли и в бубны и начаша им играти и утомивша и оставиша и живного и отидоша поругавшеся ему". Здесь музыка выступает как богоборческая стихия, как орудие поругания над святостью, причем само понятие музыки обозначается опять-таки понятием "игры" и "играния". Ту же мысль содержат многие древнерусские памятники письменности. Так, сборнике 14 века, называемом "Золотой цепью", в перечислении дел "иже ны велит Христос святии отступити", наряду с насилием, разбоем и чародейством упоминайте "бесовскыя песни, плясанье, бубны, сопели, гусли, пискове, игранья неподобныя”.Преподобный Максим Грек в "Слове против скоморохов" пишет, что скоморох "научени быша от самех богоборных бесов сатанинскому промыслу, по нему же их убо изобилые брашен и одеянии добывают человекоубийця беси, а веселящимсябесовськых играниях душевную пагубу и муку вечную приготовять." Этот взгляд на "игру" и "играние" освящен и авторитетом Стоглавого собора, глава которого содержащая "соборный отчет о игрищах елинского бесования", гласит, в частности "Праздность бо и пиянство и играние всему злу начало есть и погубление велие Сего ради отрицают вся божественная писания и священные правила всякое играние и зерни, и шахматы, и тавлеи, и гусли, и смыки, и сопели, и всякое гудение и глумление и позорище и плясание". Различие между игрой и пением, музыкой и богослужебным пением не было на Руси простым различием между некими "смежными" родами деятельности, но представляло собой противостояние противоположных жизненных позиций, противоположных душевных состояний, противоположных путей, один из которых ведет к погибели, а другой ко спасению. Напряженная борьба между этими двумя началами, ведущаяся на протяжении всей истории древнерусской культуры, принимала иногда особенно драматический и наглядный характер в конкретной человеческой судьбе с ее взлетами и падениями. Так, если во время свадебного пира царя Алексея Михайловича с первой женой Марьей Ильиничной Милославской в 1648 г. государевы певчие дьяки распевали стихиры из Праздников и Триоди, то вторая свадьба с Наталией Алексеевной Нарышкиной, матерью Петра Великого, была обставлена совершенно иначе. "Дворцовые разряды" сообщают: "После кушанья изволил великий государь себя тешить игры; и его великого государя тешили и в органы играли, а игралъ в органы немчинъ, и въ сурны и въ трубы трубили, и вь сурепки играли, и по накрам и по литаврам били вовсю". За этими внешними обстоятельствами угадывается история внутреннего духовного падения, когда сознательно попираются отеческие предания, соборные постановления и авторитет святости. Но падение уже свидетельствует о борьбе, а в борьбе могут быть не только падения. Вся внутренняя жизнь русского человека представляла собой постоянное духовное напряжение, постоянную невидимую брань, и брань эта знала не только глубочайшие падения, но и величайшие взлеты. Древнерусское богослужебное пение есть следствие такого духовного взлета, а занятие музыкой для русского человека еще со времен преподобного Исаакия Печерского являлось показателем и свидетельством духовного падения. Таким образом, различие между богослужебным пением и музыкой было не просто осознано на Руси, но выстрадано, добыто ценою тяжких усилий, омыто потом и слезами. Все это привело к особой ревности о чистоте богослужебной певческой системы и к обереганию ее основ от воздействий музыкального начала. Богослужебное пение, являющееся образом небесного ангельского пения, должно быть чуждым всему земному. Старейшая и исконнейшая форма богослужебного пения знаменный распев. Богослужебное пение на Руси возникло как знаменное пение, и в то время как другие распевы появлялись и сходили на нет, знаменный распев продолжал существовать на протяжении всей истории русского богослужебного пения и продолжает существовать в наши дни. Вот почему понятие "знаменный распев" порой сливается и становится идентичным в нашем сознании с понятием "русское богослужебное пение". И это не так уж далеко от истины, ибо как русское богослужебное пение немыслимо вне принципа распева, так и распев можно рассматривать как исконно русскую форму существования богослужебного пения. Какое же содержание кроется за понятием "распев" вообще и за знаменным распевом в частности? Отцы церкви говорят нам: Бог проявляет Себя через определенный порядок. Богослужебное пение есть одно из проявлений этого порядка. Конкретным выражением этого порядка и является распев, который можно определить как порядок мелодий, мелодический чин или мелодическое чинопоследование. В этом мелодическом чинопоследовании каждая конкретная мелодия закреплена за определенным богослужебным текстом или группой текстов, а также привязана к определенному времени суток, недели, года. Поэтому распев представляет собой не только чисто мелодическое понятие, но и понятие богослужебное и понятие календарное, ибо именно распев организует и выстраивает мелодический материал на основе богослужебного чина и священного календаря. Подобный принцип мелодической организации восходит к древнеегипетскому принципу нома, того самого нома, за внедрение которого столь горячо ратовал Платон в своем идеальном государстве и который понимался им как воспитание или "гимнастика души". Однако русский принцип распева не столько связан с древнеегипетским номом чисто генетическими нитями, сколько представляет собой его чудесное преображение, ибо распев и есть тот самый "Божий ном", о котором писал Климент Александрийский, называя его "вечным напевом новой гармонии" и "пением новым, левитическим". Принцип распева есть конкретное претворение в жизнь идеи новозаветного пения, "Песни новой", предреченной пророком Давидом. Уходя корнями в глубокую древность, принцип распева вобрал в себя лучшее и спасительное, что только было в музыке до Рождества Христова. Так, принципом распева были определены и усвоены катарсическое и этическое начала музыки. Разумеется, говоря об этих музыкальных началах, следует помнить, что усвоены они были не в своих первоначальных ветхих, языческих формах, а в формах новых, преображенных Пришествием Христовым и познанных в опыте православной аскетической жизни. Античный катарсис преобразился в свойство распева возводить ум на небо, очищая его от всего земного, а античное учение об этосе преобразилось в способность распева организовать внутреннюю жизнь души и освящать ее священным православным ритмом, вовлекая всего человека в кругообразные ангелоподобные движения. Все это заставляет думать, что знаменный распев стал называться знаменным не только потому, что запись его производилась с помощью специальных знаков знамен, но скорее потому, что сам он являлся неким знаком, знаменем, некоей записью, знаменующей собой явление более высокого порядка. Говоря точнее - знаменный распев знаменовал собой ангельское пение и являлся его образом, почему и все богослужебное пение на Руси называлось ангелоподобным или ангелогласным пением. Ангелоподобие и ангелогласность породили совершенно особые качества знаменного распева, проявляющиеся как в характере общего мелодического строя, так и в особенностях его структуры. Мелодизм знаменного распева представляет собойрезультат строжайшего интонационно-ритмического отбора и отсева. Все телесное, двигательно-мускульное, острохарактерное, изобразительное было отстранено, а это значит, что были отстранены песенная периодичность, танцевальная упругость, маршевая поступательность, и все то, что только могло вызвать только телесно-мышечные ассоциации. Телесности песни, танца, шествия, то есть телесности самого музыкального начала, была противопоставлена "духовность" распева, проявляющаяся в особом принципе интонационно-ритмической организации мелодии. Именно этот принцип был определен Генрихом Бесселером как "пневмонический мелос", превращающий мелодию в "символ Духа, который разливается над верующими, осенив каждого из них, причем единство его сути при этом не затрагивается". И именно этот принцип порождает свободное, величавое и вместе с тем всепроникающее и духовное течение знаменного мелодизма. Что же касается общего характера мелодического строя знаменного распева, то его можно определить как возвышенно-гимнический, торжественно-умилительный, радостно-сосредоточенный, просветленно-мужественный. А так как определения эти представляют собой эмоциональное описание состояния "похвалы" в православном понимании этого слова, то можно сказать, что знаменный распев есть мелодическое выражение состояния соборной "похвалы". Но, наверно, еще лучше мелодический характер знаменного распева определяется с помощью чрезвычайно емкого античного понятия "калокагатия", которое можно перевести как "прекрасноблагость", калокагатийность и пневмоничность. Говоря по-другому, прекрасноблагость и духовность, являющиеся одновременно и субстанцией небесной похвалы, и качествами мелодизма знаменного распева, представляют собой преображенное православием катарсическое начало, возводящее душу через ангелоподобие знаменного распева к богоподобию и обожению. Ритмическая пульсация мелодизма знаменного распева являлась конкретным осязательным воплощением ритма священного православного календаря, и человек, регулярно посещающий храм, неизбежно попадал под действие этого ритма и этой пульсации, что позволяет говорить о знаменном распеве как о способе православной организации внутренней жизни души и как о средстве освящения, или сакрализации, всего жизненного времени. Пение обусловлено жизнью. Где нет правильного чинопоследования жизни, не может быть и правильного чинопоследования мелодий. Правильное же чинопоследование жизни может быть рождено только в результате созерцания Божественного Порядка. Созерцание Божественного порядка порождает порядок жизни, порядок жизни порождает порядок пения и таким образом правильный мелодический чин, праведная жизнь и созерцание Божественного порядка образуют полноту трисоставности богослужебного пения, являющуюся отражением трисоставного строения человека, божественная жизнь которого и заключается в гармоническом взаимодействии трех начал: тела, души и духа. Чинность жизни рождает мелодический порядок или распев; бесчинность жизни рождает мелодический произвол или концерт, ибо распев и концерт есть не только различные принципы мелодического формообразования, но и различные способы или образы жизни. Если жизнь мыслится как некая составная часть иерархического обоженного космоса, осознающая свое место и назначение в этой иерархии, живущая жизнью единого целого, то такая жизнь представляет собой распев, характеризующийся иерархичностью и раскрытостью структур, а также их гармоническим соответствием и пронизанностью единым мелодическим началом. Если же жизнь мыслится как некое самостоятельное индивидуальное и замкнутое образование, осознающее свою обособленность, а весь космос представляется состоящим из таких же обособленных индивидуальных образований, находящихся в самых произвольных соотношениях, то такая жизнь представляет собой концерт, характеризующийся замкнутостью и самостоятельностью различных структур, а также самопроизвольностью их отношений без всякого стремления к координации с единым целым. Как хоровой концерт состоит из нескольких или многих контрастных по характеру частей, так и жизнь с различными ее перипетиями может рассматриваться в виде концерта. Как концерт может рассматриваться аналогом всей истории человечества с ее различными периодами, так и каждый отдельно взятый отрезок жизни человека с его метаниями разнообразных чувств есть тоже концерт. Как распев состоит из взаимопроникающих иерархических структур, пронизанных единым мелодическим началом, так и жизнь, пронизанная единым устремлением к Богу, может рассматриваться в виде распева. Как распев может рассматриваться и вся история человечества, провиденциально направляемая ко спасению, и каждый отдельно взятый отрезок жизни человека, целиком отданный Богу, есть тоже распев. Распев есть обретение единства, концерт есть утрата единства. Обретение истинного единства достигается воцерковлением, утрата истинного единства приводит к отчуждению от Церкви. Таким образом, распев и концерт есть категории не только этические, но и нравственные и духовные, а раз так, то и предпочтение того или другого есть тоже нравственное и духовное свершение, нравственное и духовное самоопределение. Если принцип концерта разбивает богослужебное пение на ряд контрастных, не связанных одно с другим песнопений, в результате чего служба сама становится похожей на концерт, состоящий изряда отдельных номеров, то принцип распева стремится подчинить все песнопения службы единой мелодико-ритмической системе, связать отдельные песнопения в некий род четок, в результате чего вся служба становится как бы одним песнопением, пронизанным единым молитвенным дыханием.
Источник: http://health-music-psy.ru/index.php?page=musykalnaya_psychologiya&issue=05-2008&part=1_martynov |